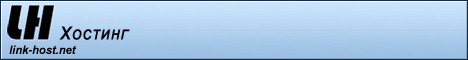Алекс Тарн. Отрывок из романа "Колечко жизни".
Две недели спустя Шломо Рахлин сел в поезд, отправляющийся в новообретенную столицу независимой Литовской республики. При входе на платформу он предъявил полученное в консульстве временное удостоверение на имя Миколаса Мажейки, двадцатитрехлетнего уроженца Вильнюса. Немецкий жандарм презрительно оттопырил губу, но в итоге документ успешно сработал как на варшавском вокзале, так и по дороге, во время последующих неоднократных проверок.
Тем не менее чужая фамилия необъяснимо тяготила Рахлина, давила и натирала душу, как неподходящая обувь давит и натирает ступню. Поэтому, едва переехав границу, он с облегчением вернул в бумажник свой прежний польский паспорт. На знакомый перрон Олиты – или, как теперь назывался город, Алитуса – он сошел уже под своим родным именем, данным ему матерью и отцом. Сошел белобрысым круглолицым курносым евреем, похожим на еврея разве что выражением глаз.
Есть люди, которых называют «не от мира сего» – видимо, Шломо Рахлина следовало отнести именно к ним. Правовые проблемы Римской империи и дискуссии шестнадцативековой давности, касающиеся конфискации имущества язычников, интересовали его намного больше, чем идеи социалистов, коммунистов и нацистов, а также призывы сионистов всех направлений и современная политика вообще. В еврейской студенческой среде подобный подход считался недопустимым эскапизмом. Все там принадлежали к тому или иному кружку, и Шломо, скрепя сердце, вынужден был тоже – хотя бы для вида – примкнуть к какой-нибудь политической стае.
Он выбрал «общих сионистов» по одной-единственной причине: их умеренность и оппортунизм не предполагали требования обременительного участия членов группы в собраниях и демонстрациях. Это давало Рахлину бесценную возможность считаться вовлеченным и в то же время тихо-мирно посиживать в библиотеке, начисто игнорируя сражения между Бундом и Агудой или драки между шмуцниками и бейтаровцами.
Спустя месяц после приезда в Вильно ему удалось пристроиться вести семинары в Институте изучения еврейства. Платили там сущие гроши, но Рахлину хватало. Все свое время Шломо посвящал работе над диссертацией – остальное не интересовало его вообще.
На переход Литвы под власть Сталина он ухитрился обратить столь же небольшое внимание, как и на переход Польши под власть Гитлера. Вернее, даже меньше, поскольку Советы оставили библиотеки открытыми, а преподавание на кафедре классической истории претерпело пока не слишком большие изменения. Тематика семинаров и работ Рахлина выглядела абсолютно безобидной с точки зрения классовой борьбы.
Напротив, экспроприируя экспроприаторов, советская империя не могли не ощущать некоторой солидарности с последним римским императором, который так решительно конфисковал собственность своих идейных противников. Возможно, именно поэтому Рахлина не задел частый гребень НКВД, с мясом выдравший из Литвы десятки тысяч интеллигентов, людей свободных профессий, инженеров, чиновников, администраторов, зажиточных хуторян и прочих «классово чуждых элементов».
Наверно, Шломо так и продолжал бы сколь угодно долго пребывать в состоянии «не от мира сего», если бы в определенный момент мир не обиделся на столь демонстративное невнимание. Стрельба под окнами библиотеки оказалась слишком шумной, чтобы пренебречь еще и ею – особенно, когда одно из стекол лопнуло от случайной пули.
Был понедельник; накануне Шломо приехал в Каунас, чтобы ознакомиться со статьей, которую не смог отыскать в виленских каталогах. Утром по дороге из гостиницы он краем уха уловил слова о начавшейся войне, но был слишком озабочен обдумыванием рабочего плана, чтобы вникать в суть посторонних разговоров.
Услышав стрельбу, Рахлин поднял глаза от книг и осмотрелся, впервые за несколько дней вынырнув в современность из реалий конца Четвертого века. Кроме него, в небольшом читальном зале не было ни души; лишь седая библиотекарша стояла возле окна, с опаской выглядывая из-за шторы. Шломо подошел к ней.
– Что происходит, пани Ревекка?
– Война. Погромы. Русские убегают, а белоповязочники стреляют им в спину…
– Кто такие белоповязочники?
Женщина с изумлением посмотрела на Шломо.
– Вы, наверно, с луны свалились, господин Рахлин. Белоповязочники – отряды подпольного Фронта литовских активистов Казиса Шкирпы. Кто такой Шкирпа, вы, видимо, тоже не знаете? Ну да, конечно… Бывший посол Литвы в Берлине, убежденный нацист. Раньше об этом Фронте только слухи ходили, но вчера эти люди вдруг вышли на улицы, и оказалось, что их тысячи, если не больше…
Снизу послышался шум мотора; из-за угла вывернулась легковушка и, взвизгнув тормозами, рванулась вперед. И сразу же неведомо откуда затрещали выстрелы; машина вильнула, накренилась и со всего маху врезалась в фонарный столб прямо напротив библиотеки. Из-под покореженного капота поднялось облачко то ли дыма, то ли пара, затем распахнулась задняя дверца, и наружу выбрался военный в перетянутой ремнями гимнастерке. Пошатываясь, он сделал несколько неверных шагов и зачем-то поднял вверх обе руки.
– Вон они, – прошептала библиотекарша.
И действительно, с обеих сторон улицы к подбитому автомобилю бежали вооруженные люди с белыми повязками на рукавах. Военный попятился и присел, прикрывая голову обеими руками. Шломо видел, как он исчез под склоненными спинами белоповязочников; минуту-другую была видна лишь мерная работа прикладами винтовок наподобие дробления щебня в ступе.
Потом группа расступилась, оставив на мостовой мертвое тело с расквашенной вдрызг головой.
– Они его убили… – потрясенно констатировал Шломо. – Кто это был? Немец?
Женщина презрительно фыркнула:
– Какой немец, Господь с вами… Немцев еще нет. Русский офицер. Не успел убежать. Но убивают не только русских. Вам, с вашими документами, на улицу тоже лучше не выходить. Хотя внешне вы…
– …не похож на еврея, – кивнул Шломо. – Да, я в курсе.
– Там одни студенты… – пробормотала библиотекарша. – Культурная вроде бы молодежь. Вот того парня, их командира, я знаю. Альгирдас, будущий юрист, ходил сюда в последние месяцы. Как он может… Боже, они смотрят сюда! Отойдите от окна, скорее!
Но предупреждение запоздало: минуту спустя по лестнице загрохотали шаги белоповязочников. Их командир вошел в зал в сопровождении нескольких парней с новенькими винтовками в руках. На губах его играла саркастическая улыбка.
– Надо же, – сказал он, – и жuдoвcкaя мышка тут. Йонас, в грузовик ее!
– Альгирдас… – пискнула было женщина, но ее уже волокли наружу.
Когда библиотекарша появилась на улице, ее седина была густо окрашена кровью.
– Литовец? Поляк? Русский? – послышалось за спиной Рахлина.
Он обернулся, стараясь не встречаться взглядом с командиром белоповязочников. Узнать его могли лишь по выражению глаз.
– Литовец.
– Имя?
– Миколас Мажейка. Я историк. Специализируюсь по…
– Документы! – резко прервал его Альгирдас.
Шломо полез в карман за бумажником. Забытая в дальнем кармашке справка сама прыгнула ему в пальцы. Белоповязочник развернул бумажку и изменился в лице.
– Ого! – изумленно воскликнул он. – Подписано самим Шкирпой! Что ж ты не с нами, брат? Стыдно! Сейчас каждый честный литовец обязан сражаться за независимость. Особенно, образованные люди, как мы с тобой. Нас ведь теперь не так много, после того как НКВД постаралось. Ребята, дайте повязку! Пойдешь с нами, братец Миколас. Считай, что тебя мобилизовали. Теперь ты боец Фронта!
– Я не умею стрелять… – промямлил Шломо.
Альгирдас хлопнул его по плечу:
– Ну так и не стреляй! Стрелков у нас хватает, в отличие от историков. Смотри, запоминай и записывай. Мы ведь сегодня делаем историю!
Из библиотеки Шломо Рахлин вышел с белой повязкой на рукаве. В соседнем переулке стоял фургон; из полумрака кузова смотрели десятки глаз – смотрели с безошибочно еврейским выражением. Сидевший у борта горбоносый старик встретился взглядом с Рахлиным и слегка приподнял руку, словно приветствуя знакомого. Узнал, – понял Шломо и поскорее потупился.
– Йонас, вези их в Седьмой форт! – скомандовал Альгирдас.
– Почему не в тюрьму? – удивился белоповязочник.
– Там уже полна коробочка! Теперь возим в Седьмой! И захватите с собой новенького, Миколаса – пускай пишет историю!
Конечно, Шломо намеревался сбежать в первый же удобный момент, но жизнь решила иначе. Белоповязочники двигались тесной группой, оторваться не получалось. А затем, уже в Седьмом форте, для выхода за ворота требовался серьезный предлог.
К тому же нужно было писать историю. Шломо осознал это довольно быстро. Судьба вручила ему белую повязку и привела в Седьмой форт в качестве свидетеля, рассказчика, историка. Потому что в происходившее там невозможно было поверить без надежных показаний очевидцев, видевших это своими глазами.
Евреев расстреливали группами по сто пятьдесят – двести человек, загоняя их в подобие небольшого котлована на территории форта, а затем поливая перекрестным пулеметным огнем. После того как пулеметы смолкали, специальная команда заключенных грузила тела на тележки и вывозила из котлована за стены, чтобы, соблюдая максимальную экономию места, уложить там в яму и слегка присыпать землей.
Земля шевелилась, потому что примерно четверть уничтожаемых оставались в живых – особенно, дети, которых во время расстрела инстинктивно прикрывали от пуль. Тех, кто умудрялся выползти, достреливали. Некоторое время спустя тележки привозили новую порцию тел, и все повторялось сызнова, пока яма не заполнялась доверху.
Большинство убийц просто выполняли неприятную работу, сетуя, что ее так много: пулеметные стволы не успевали остывать, а евреи всё никак не кончались – грузовики продолжали привозить новые и новые партии. Но попадались среди белоповязочников и садисты или те, кто радовался возможности свести счеты с ненавистным жuдoвcким отродьем. Такие выбирали из толпы обреченных приглянувшуюся им жертву и изощренно истязали ее ради собственного удовольствия. Изнасилования были обычной нормой.
«Ты историк, – поминутно напоминал себе Шломо. – Это твоя работа. Запоминай, потом расскажешь, что они творили. Главное, не смотри никому в глаза. Тем – чтобы не сойти с ума; этим – чтобы не поняли, кто ты…»
Немцы вошли в Каунас только к вечеру. Горожане встретили их цветами. Казалось, вся Литва разом нацепила на рукава белые повязки.
Рахлину удалось вырваться из форта лишь три дня спустя, когда его и Йонаса послали к автомеханикам для мелкого ремонта приписанного к группе грузовика. Во дворе гаража, наблюдая за каким-то уличным представлением, толпился празднично одетый народ – в основном, женщины с детьми и пожилые люди. Молодежь, скорее всего, была мобилизована в ряды Фронта. Шломо подошел посмотреть.
В глубине ангара возле груды тряпья стоял обнаженный до пояса парень лет семнадцати-восемнадцати. Его мощные плечи и грудь блестели от пота. Судя по легкости, с которой парень поигрывал тяжеленным ломом, он был чрезвычайно силен, и поначалу Шломо решил, что толпа собралась поглазеть на представление силачей, что-то вроде гиревого спорта.
В этот момент белоповязочник с винтовкой подвел к силачу человека в костюме и, поставив его лицом к публике, отошел в сторонку. В воздухе мелькнул лом, послышался треск проламываемого черепа, и человек рухнул на кучу тряпья.
Тряпья? Лишь в этот момент Шломо осознал, что парень стоит возле груды наваленных друг на друга тел. Толпа взвыла и разразилась аплодисментами, отмечая точный удар.
Парень с ломом поклонился, как артист после удачно исполненного номера. К нему уже вели следующего – следующего из группы тридцати-сорока евреев, покорно ждущих своей очереди справа от входа в ангар. Шломо потупился – он был здесь историком, но мог позволить себе не смотреть, а только слушать. Треск – аплодисменты. Треск – аплодисменты. И снова треск, и снова аплодисменты…
Он мог уйти, но сказал себе, что обязан дождаться конца. Куда пойдут эти домохозяйки, когда насмотрятся? Кормить грудью человеческое дитя? Вязать аккуратный половичок на вымытый до блеска пол? Ублажать в постели мужа, вернувшегося из Седьмого или Девятого форта? Или сначала польют ему на руки, по локоть перемазанные запекшейся кровью? Куда побегут эти дети, заливистым свистом отмечающие каждую смерть? В какие игры будут играть, пока мать не позовет их к ужину? Что приснится им этой ночью?
Последний треск сопровождался особенно бурной овацией, и по наступившей вслед паузе Шломо понял, что евреи закончились. Он поднял голову. Парень, благодушно улыбаясь, обтирал мощный торс полотенцем. Лом торчал из выросшей втрое кучи. Силач ухватился за него и, оскальзываясь на крови, вскарабкался на самый верх. Кто-то подал ему аккордеон; парень выдал залихватский аккорд и заиграл литовский национальный гимн. Толпа подхватила.
Стараясь не встречаться ни с кем глазами, Шломо протолкался на улицу. У противоположного тротуара стоял армейский мотоцикл с коляской. Простоволосый немец, сжимая в руках шлем, завороженно смотрел на аккордеониста. Во взгляде его читался нескрываемый ужас.
(ссылка на приобретение полного текста - в первом комменте)
Отредактировано Василь Мотузка (2024-06-25 09:56:59)